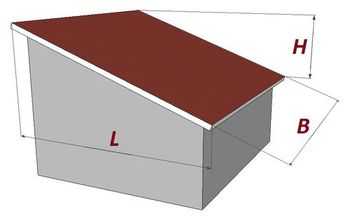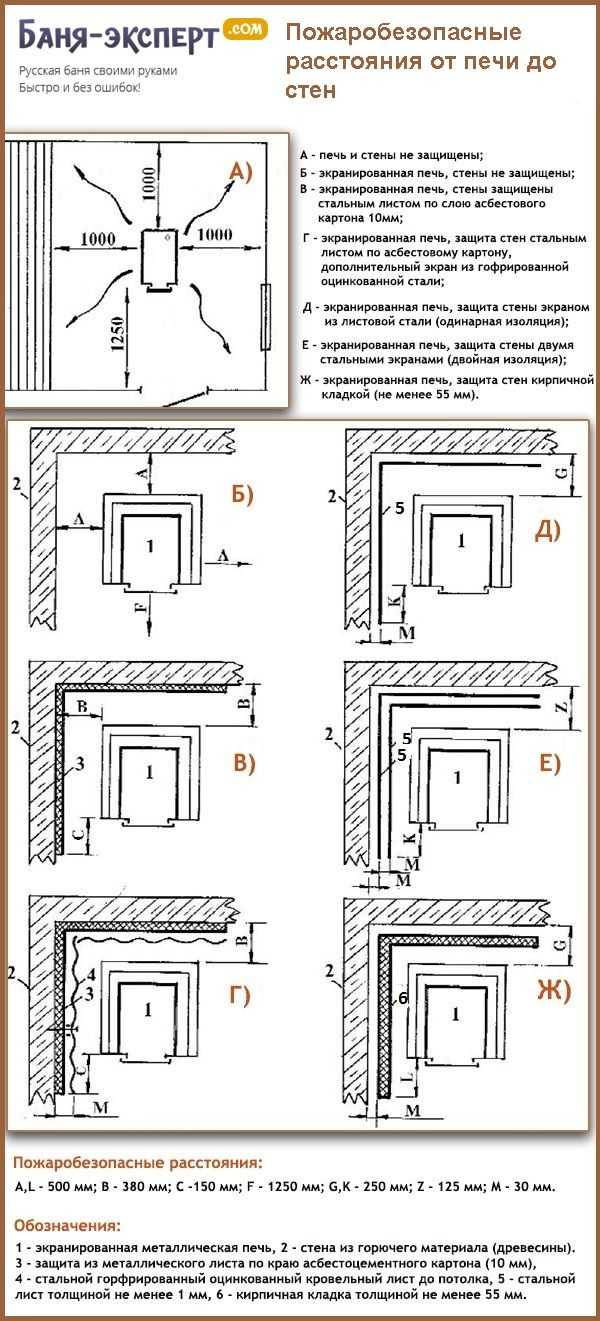"Потолок в доме" Монтаж натяжных потолков
и уточним детали
Пришвин у стен града невидимого
У стен града невидимого | Краткое содержание
Родина моя — маленькое имение Орловской губернии. Вот туда, наслушавшись споров на религиозно-философских собраниях в Петербурге, я и решил отправиться, чтобы оглянуться по сторонам, узнать, что думают мудрые лесные старцы. Так началось мое путешествие в невидимый град.
Весна. В черном саду поют соловьи. Крестьяне в поле словно ленивые светлые боги. Повсюду разговоры о японской войне, о грядущем «кроволитии». В Алексеевку пришли сектанты — «бродили где-то крещеные и веру потеряли», пугают геенной огненной. «Да это же не Христос, — думаю я, — Христос милостивый, ясный без книг…»
Вторая моя родина — Волга, кондовая Русь со скитами, раскольниками, с верой в град невидимый Китеж. Под Иванову ночь собираются со всех сторон странники на Ветлугу в город Варнавин, чтобы ползти «ободом друг за дружкой всю ночь» вкруг деревянной церковки над обрывом. Варнава-чудодей помог царю Ивану взять Казань. Теплится над его гробницей свеча, а в темном углу пророчествует бородатая старуха: «…И придет Аввадон в Питенбург, и сядет на царство, и даст печать с цифрой шестьсот шестьдесят шесть». С годины Варнавы паломники возвращаются в Уренские леса. Здесь по скитам и деревенькам живут потомки ссыльных стрельцов, сохраняют старую веру, крестятся двумя перстами. «Что-то детски наивное и мужественное сочеталось в этих русских рыцарях, последних, вымирающих лесных стариках». Прятались они по болотам, седели в ямах, читали праведные книги, творили молитву… Чтобы узнать о них, недоверчивых, настороженных, дают мне в провожатые молодого книжника Михаила Эрастовича. С трудом мы добираемся до известного в округе Пётрушки. Подростком он убежал в заволжские леса Бога искать. Христолюбец Павел Иванович отрыл ему яму, накрыл досками, дал книги, свечи, по ночам носил хлеб и воду. Двадцать семь лет провел Пётрушка под землей, а как вышел, настроил избушек, собрал вокруг себя стариков. Но это уж после закона о свободе совести! Говорят мне староверы, что опасаются: «не перевернется» ли новый закон на старые гонения? Жалуются на попа Николу: забрал из монастыря в Краснояре лучшие иконы в никонианскую церковь, ризы содрал, третьи пальчики приписал, помолодил, сидят теперь веселые, будто пьяные…
В селе Урень «что ни двор, то новая вера, тут всякие секты раскола». Однако находят себя в старообрядчестве и люди образованные. Встретил я на Волге доктора и священника в одном лице, «верующего, как и народ, в то, что был Иона во чреве китовом три дня под действием желудочного сока». Этот доктор дал мне письмо к архиерею, с которым я собрался обсудить, возможна ли «видимая церковь». «Церковь не должна идти в наемники к государству» — вот содержание нашего долгого разговора. При мне архиерей впервые, не таясь, а средь ясного дня приехал к мирянам, вышел на площадь и проповедовал. Звонят колокола, радуются полуразрушенные часовни и большие восьмиконечные кресты.
Но есть «церковь невидимая», хранимая в душе человеческой. Потому стекаются странники к Светлому озеру, к «чаше святой воды в зеленой зубчатой раме». От каждого исходит лучик веры в богоспасаемый невидимый град Китеж. За сотни верст несут тяжелые книги, чтобы «буквой» победить противников. Чувствую, что и я начинаю верить в Китеж, пусть отраженной, но искренней верой. Мне советуют послушать праведницу Татьяну Горнюю — ей дано видеть скрытый в озере град. И всякий надеется на это чудо. Старушка опускает в трещину у березовых корней копеечку и куриное яйцо для загробных жителей, другая подсовывает под корягу холстину: обносились угодники… В каком я веке? На холмах вокруг Светлояра пестро от паломников. Мой знакомый старовер ульян вступает в спор с батюшкой. Из толпы выходит большой старик в лаптях и говорит о Христе: «Он — Слово, он — Дух». С виду обыкновенный лесной мужик с рыжей клочковатой бородой, а оказалось — «непоклонник, иконоборец, немоляка». Встречался Дмитрий Иванович с петербургским писателем Мережским, переписывается с ним, не соглашается: «Он плотского Христа признает, а, по-нашему, Христа по плоти нельзя разуметь. Коли Христос плотян, так он мужик, а коли мужик, так на что он нам нужен, мужиков и так довольно».
На обратном пути от Светлого озера к городу Семенову Дмитрий Иванович знакомит меня с другими немоляками, ложкарями-философами. Они увлечены «переводом» Библии с «вещественного неба на духовного человека» и верят, что, когда все прочтешь и переведешь, настанет вечная жизнь. Они спорят с заезжими баптистами, отказываются видеть в Христе реального человека. Чувствуя мой искренний интерес, младший из немоляк, Алексей Ларионович, открывает тайну, как они забросили богов деревянных, поняв, что «все Писание — притча». Взял Алексей Ларионович тайком от жены иконы, переколол их топором, сжег, да ничего не произошло: «дрова — дрова и есть…» А в божницу опустевшую поставил свой ложкарский инструмент (на него по привычке крестится жена). Какие тайные подземные пути соединяют этих, лесных, и тех, культурных, искателей истинной веры! Сотни их, виденных мною, начиная от пустынника Петрушки и кончая воображаемым духовным человеком, разделенным с плотью этими немоляками, прошли у стен града невидимого. И кажется, староверский быт говорит моему сердцу о возможном, но упущенном счастии русского народа. «Обессиленная душа протопопа Аввакума, — думал я, — не соединяет, а разъединяет земных людей».
Вы прочитали краткое содержание повести "У стен града невидимого". Предлагаем вам также посетить раздел Краткие содержания, чтобы ознакомиться с изложениями других популярных писателей.
reedcafe.ru
М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 2
Глава III
Крест в лесу
Курится сосна, подожженная молнией. Дым, как хвост десятирожного зверя, завернулся над лесом, тяжелый, спит. Паломники возвращаются с годины Варнавы в Уренские леса. Плот переплывает Ветлугу молчаливо. Косяки черных платков, острые носы, старые подбородки, недоверчивые лесные глаза — все начеку. На воде говорить — нехорошо.

Плот пристает к берегу. И кто-то тяжелый, спящий над лесом, пробуждается, ползет по вершинам сосен навстречу, становится на дыбы, глядит, темный, нерадостный.
Паломники крестятся перед часовней столбиком и один за другим исчезают между соснами.
Направо, налево, на множество верст высокие зеленые стены. Папоротники, полянки с ландышами, белки.
Это леса Уренского края, населенные потомками сосланных при Петре стрельцов. В Варнавине мне много насказали про этот край, и я опять отступил от плана и поехал, свободный, бескорыстный, отдался всецело невидимым тайным помощникам, сопровождающим меня в путешествии. Передо мною Божья книга — читай, перевертывай страницу за страницей.
Бог этих лесов какой-то суровый, коренастый, глядит исподлобья, не доверяет и принимает молитвы не тремя, а двумя пальцами. Люди тоже неприветливые. Одежда, лица, характер — все не такое, как на моей равнине. Неужели это от Двуперстия?
Чтобы сойтись с ними, я забываю о трех перстах, перестаю курить, есть скоромное, пить чай. И все-таки побаиваюсь. Первое условие для сближения — искренность. Но где ее найти, когда все эти предметы культа: старинные иконы, семь просфор, хождение посолонь, двуперстие (1) — для меня лишь этнографические ценности. Стучусь под окошком одного дома и побаиваюсь. Старик, черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, отворяет.
— Откулешний? Зачем?
— Ищу правильную веру.
— Входи.
Угол с образами. Большая развернутая книга с славянскими буквами, на ней очки с темными тесемками. В радужное стекло глядится лес.
Старик испытывает меня: не на жалованье ли я, не от правительства ли?
— Боже сохрани. Я не на жалованье. Я от газеты. Я получаю за строчку.
— Какую строчку?
— Вот! — показываю я на книгу.
Надевает очки, глядит в Псалтырь.
— Какую, говоришь, строчку?
— Хоть эту: «Небеса поведают славу Божию, творения же рук Его возвещает твердь».
— И за такую строчку вам деньги платят? — спрашивает старик и глядит поверх очков.
Я смутился, подумал: неспроста говорит старик; но ошибся: он удивлен, как ребенок.
— Это вроде как нам за борозду, — смеется он. — У меня есть сын, тоже читатель. Миша! По твоей части приехали.
Молодой, сметливый парень сразу догадался. На полке у него множество священных книг в желтых кожаных староверских переплетах с застежками. В одной из этих, почитаемых как священные, книг строчки не славянские, мелкие, знакомые. Это «Жизнь протопопа Аввакума» Мякотина (2), Издание Павленкова, но в священном переплете и на священной полочке.
— Вот они, наши строчки! — говорю я, обрадованный.
— Так вы вроде Мякотина?
— Конечно, конечно, я вроде Мякотина.
И вижу в радужное окно: светлеет в лесу, яснеет лик недоверчивого сурового уренского бога. Мост, быть может, отчасти и мною созданный, перекидывается ко мне.
Для «науки» Михаил Эрастович, сын хозяина, готов на все.
— Мы вам все откроем, — говорят мне. — Мы вам все веры покажем. Есть святые места, есть святые люди, есть начетчики райские. Куда везти?
— К Максиму Сергеевичу? — спрашивает сын.
— Любого попа загонит! — одобряет отец.
— Или к Александру Федоровичу?
— Делец!
— Или к Дмитрию Ивановичу?
— Петля!
— А то к Петрушке?
— Вези к Петрушке, с него начни.
Поутру рано меня повезут в страшную глушь к святому, который просидел, спасаясь молитвой, двадцать семь лет в лесной яме. А сегодня угощают. «Ученому» не грех даже напиться чаю, и можно папироску в окно выкурить, и поесть скоромное.
И вот случай… Вот исключение в староверском быту. Еще случай, еще исключение. И так сложится правило, чудесное, из одних только исключений. Это и есть путешествие.

Святой живет где-то около деревни Березовки. Дорога лесная по пням и через поваленные деревья. Просека длинная, длинная: кажется, это леший в кулак поглядел отсюда туда, к нам, в безлесье, — и задумался. Может быть, видит, как на черные поля из красного глиняного оврага вылез погреться на солнце шутяка бесхвостый, ощипанный.
Леший грустит… А мой спутник Михаил Эрастович думает, что там, за просекой, чудесный мир…
Он все хозяйство бросил для «науки», едет и думает, что мы с ним делаем какое-то большое дело для большого неведомого мира — там, за лесами.
Не очень далеко от святого, рассказывает он мне, на Усте стоял прекрасный прославленный монастырь Краснояр. И стоять бы ему вечно, но дьявол искусил царя Николая I. Прислал гонца из «Питенбурга», чтобы «зорить» святой монастырь. Стали ломать кельи. Ужас всех объял, думали — человек вновь перерождается. Сломали. И свой же нечестивый человек, Алеша Тоска, свергнул крест с часовни. Монастырь потух. Гонец побежал назад. А государю в те поры думно стало, захворал, спохватился: напрасно, сказал, я послал «зорить» благочестивый монастырь. И послал другого гонца остановить. Бегут гонцы: один из Краснояра в Питенбург, другой из Питенбурга в Краснояр… И вот, как встретились, так… Ужасная, нечеловеческая смерть постигла Николая I, когда встретились гонцы. Чтобы изобразить ее, Михаил Эрастович отмерил длинный язык, до колен.
Теперь от монастыря остались только две могилы и свергнутый крест. Два раза в год в это глухое место к святым могилам сходится множество народа.

«Издан закон о свободе совести (3), — думаю я, слушая этот рассказ. — Что, если собрать в народе воспоминания о монастыре, составить план, сделать описание и представить все это покровителю беглопоповского согласия нижегородскому купцу Бугрову? Быть может, он даст денег, правительство разрешит — и монастырь вновь воскреснет. Люди будут рады».

— Всю жизнь за вас Богу будут молиться, — говорит мне мой проводник.
— Хорошо. Попробуем.
В деревне нас окружают люди, сначала недоверчивые.
Но Михаил Эрастович шепчется с ними, поглядывая на меня.
Сколько, наверно, легенд осталось там, в лесу, обо мне. Коснуться глубины живой стихии — она сейчас же ответит.
Мой спутник шепчется со стариками и старухами, и я угадываю легенду: настали новые времена, оттуда, издалека, царь прислал потихоньку своего человека в леса, чтобы вернуть все старое. Новые времена. Одна старушка предлагает в Псалтырь заглянуть, узнать, какая теперь тысяча, восьмая или девятая, и что это значит. Все рады мне, все хотят помочь святому делу. Я чувствую, что прикасаюсь к какому-то самому глубокому нерву их жизни, чувствую какую-то интимнейшую близость с ними. Один несет мне кирпич, священный остаток Краснояра, другой — обломок медного креста. А самое главное: мне хотят показать две святые иконы, сохранившиеся с тех времен. Старик с углубленным, кротким взглядом, хранитель часовни, выбранный народом, ведет меня в старую часовню, на кладбище, под купол елей и сосен.
Часовня темная. На кресте мох и трава. Внутри же все заботливо убрано. Как и в первоначальную старину, полотняная занавесь разделяет на две части часовню, мужеский пол от женского, сено от огня.

В часовне благоговейно крестятся двумя перстами. Пахнет тлеющим деревом. Тихо перешептываются большие староверские книги с темными ликами.
— Заведение хорошее, — говорит мне кроткий жрец, рассказывая историю каждой иконы, спасенной при разорении Красноярского скита. — Заведение хорошее, — повторяет он, — и книги, и божество.
— Хорошее божество, — повторяю я за ним.
— Никола Явленный, — показывает мне радостно жрец на темную старую икону. — В ручье явился.
— Черный…— говорю я. — Ничего не понять.
— Зарудел, — отвечает старик и протирает рукавом святой лик.
«Да, это боги, — думаю я, — настоящие боги». Кто-то мне объяснял, кто-то учил, что это не боги, а их изображения, как фотографии. Но вот теперь издали я понимаю, как фальшиво это объяснение. Сердце говорит мне, что это боги. Ребенком знал я их, чтил, боялся и поклонялся. Страшные, но все-таки милые детские боги.
— Божество хорошее, — твержу я бессознательно.
— Хорошее божество, все заведение хорошее, — повторяет за мной радостно кроткий жрец.
И вижу я далекий огонек моего детства, далекий, далекий, загадочный. Туда уходят холодные бесконечные параллельные линии и сходятся в одну тонкую, тонкую нить. И висит там где-то мой священный фонарик под черным абажуром. Заглянуть туда, под черный колпачок?
Невозможно. Холодные линии бесконечны: нельзя узнать, где они сходятся в нить.
— Божество очень хорошее, — говорю я, выходя из часовни.
— Хорошее божество. Все заведение хорошее, — повторяют за мной все радостные почитатели. Обступают меня и просят:
— Упеки ты попа Николу. Он перемазал божество…
— Что такое?..
— А как «зорили», родимый, Краснояр, так самые лучшие иконы повесили в никонианскую церковь. И висели они там от зачатия века святые.
А Никола перемазал.
— Ризы содрал.
— Третьи пальчики приписал.
— Помолодил.
— Сидят теперь веселые, будто пьяные.
— Скажи царю, что поп Никола перемазал божество.
— Скажу…
— Скажи, скажи, родимый. Скажешь?
— Скажу.
— Какой ты хороший. Путь тебе счастливый.
— Подожди, милый, — просит кто-то. — Скажи царю, что нехорошо ему щепотью молиться. Скажешь?
— Скажу.
— Вот видишь, — обертывается старушка к толпе, показывая рукой на меня. — Вот видишь, был Савлом, а стал Павлом (4). Заглянуть бы в Псалтырь, какая теперь тысяча.
Из деревни в деревню все то же: священные остатки скита и неустанные просьбы помочь староверскому делу. В лесу иногда большие восьмиконечные кресты свешиваются над повозкой. Это все мне кажется книгой про старину. Живое солнце, живые деревья глядят на желтые листы, на славянские буквы. Много настоящих цветов и особенно ландышей украшают страницы. Но нет самого главного: книга мертва. Бог ушел из нее. Ему стало скучно, он ушел, а люди роются, роются в желтых страницах.
Вот высокий купол сосен возвышается над лесом. Можно догадаться, что это старое, заброшенное кладбище: когда-то лес был срублен, и остались только эти сосны над могилами.
Я хочу посмотреть на старину, пробираюсь внутрь леса, под купол.
Всего две могилы осталось. Старик в черном кафтане, с черной змейкой-лестовкой на руке молится.
Хочется сказать ему: дедушка, не нужно, Бога тут нету, он ушел отсюда, ему здесь скучно. Бог теперь не живет по пустыням.
Но как сказать это? Жалко старика, да и не поверит. Нет, пусть все так доживает, как есть. Из деревни в деревню — все так. Но вот есть, рассказывает мой проводник, возле Березовки настоящий святой. Молится так, что березки кланяются. Почти тридцать лет тому назад убежал он мальчиком с Волги искать Бога в этом лесу. Христолюбец Павел Иванович укрыл его, выкопал ямку, повесил икону, зажег лампаду, книги дал. Сверху закрыл досками, мохом обложил. «Читай, — сказал он мальчику, — читай, Пётрушко, спасай мою грешную душу».
Двадцать семь лет горела лампада в лесной яме. И по ночам крался туда христолюбец с водой и хлебом. Пошепчется: «Жив? Слава Богу. Читай, молись, Пётрушко». И ровно двадцать семь лет в темной яме при свете лампады читал Пётрушко и молился за грешную душу Павла Ивановича и за всех христиан.
Весть о свободе совести прошла и в Уренские леса. Пётрушко вылез из ямы, выстроил себе келью поверх земли. Выстроил еще одну, и еще, и еще. Собрались благочестивые старцы и старушки в лесные кельи. Возник новый скит.
Рассказывает мне это Михаил Эрастович. «Нет, — думаю, — я ошибся. Бог не ушел, он здесь». А лес высокий, темный. Папоротники выбегают на дорогу.
Да и, может быть, все это неправда: может быть, мир вовсе не идет следом за Богом вперед и вперед. Может быть, он вертится вокруг одной точки, вокруг этого огонька в лесной яме.
Это восток. Значит, можно всего ожидать.
Еще один лесной купол, еще один поваленный крест. Просека. Кордон.
Лес разбегается в стороны. Зеленые, синие, желтые полоски полей. Лесная темная деревня Березовка.
Христолюбец Павел Иванович встречает нас недоверчиво. Михаил Эрастович, мой проводник, хоть и знакомый его, но молод, мало знает про божественное, ему не очень доверяют. Павел Иванович темно-желтый, как переплет староверской книги. Старуха обманчиво ласковая. Дочка Аннушка белая, белая, глаза большие.
Мы говорим про Краснояр, показываем священные остатки. Пергамент разглаживается; приносят закусить хлеба и квасу.
Нас провели бы к Петрушке. Но вот это яйцо. Обыкновенное куриное яйцо выскочило у меня из сумки и покатилось по полу. Был Петровский пост. Яйцо в руках основателя нового Красноярского скита мелькнуло, как рог антихриста или кокарда чиновника.
Но ничего нельзя было заметить на лицах хозяев. С ласковой улыбкой проводила хозяйка на крыльцо и как ни в чем не бывало рассказала нам путь: до Усты тропинка, у реки душегубка, переправимся — кордон; от него в правую руку лежит дуб, черный, с Ноева потопа лежит; по дубу перейдем ручей — и на болото; а по болоту версты две до леса, в лесу грива и на ней живет Пётрушко.
По лицу старухи ничего нельзя было заметить. В русском человеке иногда глубоко запрятана внутренняя жизнь. Но злое предчувствие пошло с нами в пустыню, дурные признаки встречались на каждом шагу. Чуть не утонули на душегубке. Поскользнулись на Ноевом дубу. На болоте, на лавах, рухнуло под нами бревно. А перед самой лесной гривой, где стоит новый скит, встретила нас непроходимая топь.
— Пётрушко! — кричим мы на ту сторону.
Никто не отзывается. Ворон кричит.
Где тропа — неизвестно. Но делать нечего: разделись, перешли, вытерлись папоротниками. На лесной гриве высокие ели и сосны, дикие розы, ландыши. Так тихо, что сосны оживают: мы идем вперед, они назад.
Первая избушка под сосной мне показалась большой муравьиной кочкой. Потом другая, третья, все шесть кругом, глядят в одну точку, как в древних селах. В середине круга — навес, под ним лавки и костер от комаров. Это приемная.

Прежде всего к дыму. Купаемся в нем, исцеляемся от злых укусов комаров и слепней.
Никто не выходит из келий. Безмолвно. Кошка белая прокралась в кусты и почти испугала.
Почему же никто не выходит?
И вот тут-то вспомнили про грешное яйцо. Не послали ли вперед нас гонца? Быть может, все разбежались?
— Господи Исусе Христе, — стучимся мы под окно. Стучимся под другое, под третье, обходим все шесть келий — молчат.
Дым от костра, спокойный, тяжелый, устраивается там, на верхушках сосен, сторожит пустыню, глядит сверху: что мы будем делать?
А мы, сильно нагнувшись, почти вползаем в одну келью. Тут комаров! Свист, вой, В стене мы замечаем пучок длинных самодельных серных спичек. Зажигаем одну, другую. Вся келья наполняется дымом.
На полу кусок полотна, свернут пологом. Не спит ли кто-нибудь там? Нет.
На полках возле печи самодельная деревянная утварь, как у Робинзона Крузо. Черный котелок над лучинками. На других полках много огромных книг.
Мой спутник не очень церемонится, вытаскивает из одной заложку и читает: «Пустыня! О прекрасная мати, прими меня в тихость свою безмолвную, в палату лесовольную».
Присели на лавку. Заглянули в оконце. Опять ворон кричит. Комары воют. И чуть-чуть березки верхушками шумят.
— Ну и житье! — сказал мой проводник.
— Житье безмолвное,— ответил я ему.

В другой келье то же самое. Везде то же самое.
Вышли на кладбище. Тут две свежие могилы в срубах. Между ними на подставке вроде пюпитра лежит развернутая священная книга. Значит, только что читали.
Конечно, попрятались. Яйцо напугало христолюбцев, послали гонца сухим путем, нам указали болото — вот и все.
— Мы их поймаем, — шепчет Михаил Эрастович. — Они тут же где-нибудь за соснами стоят.
Мой спутник для науки готов на все: даже ловить своих одноверцев. А мне так ясно вспоминается зеленый переплет читанной в детстве страшной книги: «Охота за черепами» (5). Где-то в сибирских лесах одни люди с ружьями ищут других, безоружных, убивают их и получают деньги за череп.
— Не нужно, — прошу я.
Но проводник мой не шутит с наукой. Ради нее он бросил свое дело. Нет. Так, ни с чем, он не уйдет.
— Вот, — шепчет он, отойдя немного в лес, — тут будем ждать. Они сейчас выйдут. Они за соснами стоят.
Ложимся в траву, как настоящие охотники за черепами. Кусты шиповника, дикой малины, множество ландышей, желтеющих, но еще пахучих. Потихоньку я собираю букет и шепчу спутнику, что такой в Петербурге стоит двугривенный. И как это его удивляет! Он тоже принимается собирать. Еще на двугривенный, еще на двугривенный, на рубль, на два. Невозможно остановить товарища. Ползает. Букет огромный. Запах сильный. На мгновенье кажется, что лежим мы где-то на юге, на высокой горе, залитой солнцем, покрытой душистыми азалиями.
В северных лесах часто бывают такие южные откровения. И потому это, что сосны, и ели, и вереск, и мох в глубине своей нерадостной души вечно грезят о юге. Их жизнь — сон и мечта о невидимом.
Курится костер, свивается дым огромным хвостом. Отделился от сосны пустынник в синей самотканой одежде, в берестовых лаптях. Шагает неровно, будто только что учится ходить поверх земли. Тихо крадется к костру, озирается. Сел на лавку, окунул голову в дым, исчез в нем.

— Петрушко!
Дрожит большой рыжий человек. Глаза у него маленькие, на лицо человека смотрят с ужасом.
— Пётрушко!
— Я не Пётрушко.
— Пётрушко, мы не кусаемся. Мы пришли поговорить с тобой по душе. Теперь свобода, никто тебя не смеет тронуть. Живи себе поверх земли с миром.
И еще два-три ласковых слова и немного мелочи на свечи.
Маленькие глазки нашли где-то опору.
— Хорошо на земле. Прытко хорошо. Дождя Бог дал, грибы родились. И ягоды много… малина будет и всякая ягода. Сено хорошее. Прытко хорошо на земле.
— А там, под землей?
И под землей хорошо. Христолюбец рыл ямы просторные. Сперва боялся: искали, прытко искали. Слышно, как ходили в лесу. И по яме ходили, доски стучали. Зимой снегу навалит — дышать трудно. Лампада меркнет. Книгу читать нельзя. Тут надо костер развести — протянет, и лампада разгорается, и опять книгу читать можно. Прытко искали. Народ в деревне слабый, охота с христолюбца деньги сорвать. Проследят, куда ночью хлеб носит. А, скажут, душу свою спасать задумал. Давай, а то донесу. Много стоило Павлу Ивановичу, не сосчитать сколько, разорился бы, да лесничий помог. Хороший человек. Христолюбец просит: «Ваше благородие, дозвольте в лесу ямку вырыть, — у меня человек». — «Замерзнет, водой зальет». — «Только дозвольте: не замерзнет, не зальет. Мне душу спасти охота». — «Рой»,— дозволил лесничий. А христолюбец вырыл семь ям в лесу. Чуть что, бывало, сейчас в лес и переведет в иную яму.
Курится костер. Пустынник рассказывает, не поднимая глаз. Будто и здесь, на земле, он видит где-то огонек своей лампады, свою защиту.
— Искали, прытко искали.
— Кому ты нужен, зачем тебя искали?
— Им не любо. У них жизнь пространная и широкая, а моя узкая. Им не любо. Ай принести книгу? Почитаем?
Крестится над темной книгой большой волосатый ребенок. Трещит застежка. Еще раз крестится. Слушают сосны Слово Божие. Слушают цветы. Старушки и старички выросли из земли, подсели к костру.
Антихрист царствует. Какие-то три с половиной года до конца. И давно бы пора наступить концу. А все не наступает. Когда же? Что значат эти три с половиной года?
— Эти три с половиной года покрыты дланью Божией. Что за год-то считать.
— Какие года!
— Длинные или короткие.
— А только вот есть признаки.
Много признаков есть. Господи. Сколько признаков конца. Не пересчитать… Первое, второе, третье…
Читает пустынник книгу о вере. И вот точь-в-точь было и тогда так. Точит старушка заржавленный ножик о красный кирпич… Грозятся голые мерзлые ветви в окно… Сверчок за печкой поет. Шепчет голос: «Восьмая теперь тысяча или девятая?»
— Вы доживете. Как пойдет девятая тысяча, так по краюшку ходить будете, как есть по краюшку ходить будете. Хорошо, как есть молельщики к истинному Христу. А как молельщиков-то нет, да будет народ аховец.
И вот как идешь по лестнице Божией, так идет теперь время. Доживете, что с крышами ходить будете. В дождик над собой крыши раскинете. Вы доживете.
— Бабушка, я убегу.
— Чадо мое милое, не убежишь, а припадешь, и все припадут, и не будет на земле лаптя не измеренного.
— Я упаду на коленки, покаюсь.
— Чадо мое милое. Он, Истинный-то, и скажет: ты мои рукописания не слушал. Хоть бы капельку не забыл. Иди в тьму, пади в огненную реку.
Станут реветь, да не вовремя. И вот если бы весь песочек перебрать и всю землю по песчинке, конец бы. Так если бы знать, что перебрали, — и конец, возрадовались бы.
— Он же, бабушка, добрый.
— Да Он не рад. Не волен. Как Его распяли, мать Пресвятая Богородица и плачет.
«Не плачь, матерь моя возлюбленная, не плачь: Я в третий день воскресну».
И воскрес… И повел грешников из ада. Застонал сатана.
«Не стонь, адие, — говорит ему Истинный. — Не стонь, что порожний остался. При последнем времени опять наполнишься, — не младенцами, не праведниками, а купцами, попами и богатыми мужиками. Не стонь…»
— Какая теперь тысяча? Восьмая или девятая?
Шепчет голос: «девятая… дожили…»
Где-то между соснами сохранился крест с часовни Красноярского скита. Мы ищем его, но не можем найти. И так в поисках подходим к густой заросли «Гнилое озеро». Дальше идти некуда.
— Тут еще один скрывается, — сказал один из моих спутников.
— Что же он не выходит? — спросил я. — Разве до него не дошла весть о законе?
— Дошла, да все боится, не верит, говорит: «Закон перевернется».
— И очень просто, что перевернется, — сказал другой спутник.
Мы запоздали. Сильно темнело. И креста мы в лесу не нашли.
Продолжение следует.
М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 1
1. …семь просфор, хождение посолонь, двуперстие…— Элементы старообрядческого богослужения. Посолонь — по солнцу.
2. Это «Жизнь протопопа Аввакума» Мякотина.— Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937) — русский историк, публицист, сотрудник журнала «Русское богатство», автор книги «Протопоп Аввакум» и других исследований.
3. Издан закон о свободе совести…— Имеется в виду Манифест 17 октября 1905 г. и закон от 17 апреля 1908 г. о свободе вероисповедания граждан России.
4….был Савлом, а стал Павлом.— Деян. 13:9.
5….читанной в детстве страшной книги: «Охота за черепами». — Имеется в виду книга английского писателя Майн-Рида (1818–1883) «Охотники за черепами».
ruvera.ru
М.М. Пришвин. Рассказ «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 3
Глава IV
Церковь видимая
Церковь видимая, каменная, с колоколами, иконы — боги, обряды в их прямом значении — вот ближайший путь к душе народа. Я думал, что он невозможен для нас. Невозможны и всякие попытки. Но нет… На Волге все знают одного доктора, человека верующего, как и народ. Презрительно смеются над ним: больных нужно лечить, а не заставлять Богу молиться. Верующие, наоборот, очень довольны соединением врача и священника в одном лице.
Я познакомился с этим врачом. Мы разговорились. Я заступался за разум человеческий, я говорил, что в подчинении его божественному разуму часто таится обычный, не для всех обязательный, страх перед физической смертью.
— Как вы могли поверить? — сказал я наконец.
— Это было чудо, — ответил врач.
Мы помолчали.
— Когда-то и я верил в чудеса, как Авраам, ждал к себе в хижину добрых ангелов. И не дождался… Для меня мир стал голым, без чудес. И много всяких обманов — много всего… Теперь при одном слове «чудо» мне рисуется пребывание Ионы во чреве китовом (1) три дня под действием желудочного сока.
— Неужели и в это верите? — спросил я врача.
— Верю.
— А желудочный сок?
— Чудо. Для Бога все возможно.
Я, конечно, не стал возражать. Я понял, что у доктора слова имеют двойное значение: медицинское и другое, отвечающее такому чувству, которого у меня, быть может, и вовсе нет.
Доктор стал мне рассказывать раздраженно, как ему пришлось девять лет бороться с духовенством за истинную православную церковь при смехе интеллигенции. Теперь он бросил все. Убедился, что только в староверчестве сохранилось то, чего он ищет. Австрийское согласие (2) старообрядчества в особенности близко к его идеалам. В эту «веру» врачу мешает перейти лишь вопрос о благодати. В глубине истории этого согласия есть какое-то лицо, взявшее на себя будто бы самочинно таинство священства в Белой Кринице в Австрии. Что-то вроде этого… Тут и прерывается благодатная связь австрийского согласия со вселенскою церковью.
Мне, наблюдателю, доктор очень рекомендовал познакомиться с епископом австрийского согласия, дал к нему письмо.
Этой беседой с доктором и начались мои дорожные впечатления из области видимой церкви.
С письмом доктора я пошел к архиерею, но в адресе была какая-то ошибка. Я долго блуждал по улицам и наконец обратился к старику в черном длинном кафтане, конечно, староверу. С большим почтением отнесся ко мне старик и повел сам к архиерею.
— Как у вас, — спросил я его, — после закона о свободе совести?
— Слава тебе Господи, — ответил старик. — Звон, везде звон, по всему Заволжью звон. Везде церкви новые строят, старые поправляют, везде колокола, везде звон.
Сияет старичок. И вспомнили мы с ним те суровые времена, когда старообрядцы даже в чугунные доски опасались сильно звонить. Теперь эти времена прошли.
— Слава тебе Господи, — перекрестился старик двумя пальцами. — Слава тебе Господи, государь слабость даровал, теперь везде, по всем церквам звон.
Так болтая, дошли мы до архиерейского дома.
— Вот тут живет владыка, — указал мне старик.
Я вошел во двор, поднялся по деревянной лестнице вверх и вдруг увидел перед собой множество больших и малых колоколов, а между ними совершенно такого же старика, как мой провожатый, с веревкой в руке ко всем колоколам.

— Звон, звон, — в ужасе прошептал я, представляя себе, что все эти колокола зазвонят тут, на деревянной лестнице, в деревянном доме.
Я принял старика за архиерея. Это ничуть не удивительно. У старообрядцев нет школ, семинарий, академий; мне говорили даже, что теперешний епископ был простым солдатом. Мне не показалось странным, что епископ, радуясь дарованной свободе, увлекается звоном в колокола.
— Ради Бога, владыка, — сказал я, — подождите звонить, у меня к вам письмо от доктора N.
Старик оставил веревку, взял письмо и повел меня вниз по лестнице. Он — не архиерей, изумляется мне, оглядывая с головы до ног.
«Какие же эти архиереи?» — с волнением думаю я, входя в переднюю. Никогда в жизни мне не приходилось разговаривать с архиереем. Имел я понятие о них лишь по рассказам Лескова и представлял их почему-то всегда с длинными вкусными рыбами. Но еще более загадочным казался мне архиерей из народа. Мне думалось, что с таким архиереем еще больше нужно хитрить, чем с обыкновенным, что между мною, человеком, стоящим вне каст, и им, жрецом, начнется сейчас же чрезвычайно неудобное изучение друг друга.
Вхожу. Маленький, черненький монашек с нервным, интеллигентным лицом сидит за круглым столом, читает книгу. Какую? — пробегаю я глазами по странице. «Юлиан Отступник» Мережковского, узнаю я.
Один взгляд на буквы — и нам не нужно изучать друг друга. Какая-то особая светская благодать соединяет нас. Два-три слова о романе, и мы знакомы. Два совершенно разных мира соприкасаются где-то в одной точке. Мы интересны друг другу.

Церковь не должна идти в наемники к государству — вот содержание нашего долгого разговора. Но как это возможно? Хотя и есть теперь закон о свободной организации общин, но что же дальше? Вот уже потребовались правительству метрические записи. Не есть ли это уже первый шаг вмешательства государства в дело новой церкви? Потом материальные средства, получаемые от патронов-купцов; поклоны и заискивания этих купцов перед министрами. Разве это все не роковые шаги? Разве вообще возможна теперь, после стольких веков опыта, видимая церковь? Архиерей, как верующий в свое дело человек, надеется. Но для меня, стороннего человека, так ясна невозможность полного разграничения земной церкви и земного государства.
В душе старообрядцев, я знаю, есть два таинственных круга. Один круг государственный, другой — религиозный. Эти круги где-то пересекаются, и на месте их пересечения сидит, глядит зверь-антихрист. Если это так, — а это так, — то как же возможно старообрядцу верить в старинно-православную церковь на земле?
Когда я пришел к архиерею, он собирался ехать по епархии в далекий Уренский край. Там после закона о свободе народ еще не видал своего архиерея. «Вот посмотреть бы», — подумал я и уговорился с епископом встретиться и еще поговорить в Урене.
Через много дней, когда я приехал в Урень, я спросил про архиерея. Его там ждали. В этом большом лесном селе я первый раз столкнулся с староверской народной массой. Помню, рано утром меня разбудил шум. Я посмотрел в окно узнать, что это значит, и залюбовался видом шумного уренского базара при восходящем солнце: позолоченные гривы лошадей, шляпы раскольников, похожие на опрокинутые цветочные горшки, очки начетчиков-философов, малютка-богиня на высоком возу сена — все было красиво.

И слышу — под окном кто-то рассказывает, как он ходил к Серафиму (3): чайку попил, разогрелся, простудился, обещался и пошел. Такой спокойный, спокойный разговор. В этом лесном краю на меня пахнуло родными черноземными полями, где нет этого здешнего беспокойного духа староверов.
Вдруг кто-то перебил говорившего:
— По Христу, Сыну Божию, — сказал он, — нет теперь ни провалов, ни пророков, ни мощей. Шляетесь к Серафиму, а Священное Писание не читаете. Серафим не спасет, если сам себя не спасешь; Господь в сердце.
— Верно! — отозвался кто-то на возу.
— Верно! — сказали у кулей овса.
Поднялся спор. В Урене что ни двор, то новая вера, тут есть всякие секты раскола. И вот зашумели у моего окна разные согласия.
— В этой вере, — кричат, — благодати нету.
— Благодати, — отвечают, — теперь ни в какой вере нету.
— Она в лес ушла, — смеется один.
— На ветках висит, — дразнит другой.
Забыты воза с сеном, кули с овсом, забыты деревянные изделия. Спорят о вере, о благодати.

Шум, крик.
«У нас не бывает так, — думаю я. — У нас мужик неотделим от кулей и возов». И ясно мелькнуло: да ведь это все от «благодати». Оборвалась связь с церковью, и тем затронут какой-то самый главный, самый глубокий нерв; оттого здесь, наверно, все не так: любовь, семья, общественность.
— Как это все у вас? — спрашиваю я одного молодого парня.
— Совесть на совесть придется, — отвечает он мне, — вот и любовь.
У родителей благословятся и живут. Не любо — разойдутся.
— А дети?
— Детей призирают.
«Вот он, край свободной любви, — думаю я, — о которой как раз теперь говорят в литературе». Который уже раз я переживаю в глуши странное чувство: в городах говорили об общине, приедешь в деревню, и там мужики говорят об общине. Потом говорили о свободе личности. В деревне тоже по-своему говорили дети с отцами. Теперь там говорят о вопросах пола, и вот передо мною целая живая книга. Я разгадываю теперь эту, казавшуюся мне странной, загадку так: в стихии есть все, она отвечает на наши вопросы.
На базарной площади завязывается спор о любви и браке. Я будто в центре литературных скрещенных течений.
Защитники свободной любви, молодые люди, один перед другим рассказывают и хвалят свои обычаи. Но выступает старый, белый, седой с костылем, не то толстовский дедушка Антип, не то Рок из древней трагедии.
— Грех! — останавливает он молодых. — Как перед истинным Христом поведаю тебе: грех бабу менять. У нас, — говорит мне дед, — бывает, что дети отца не знают и сходятся брат с сестрой. Грех. Надо жить по закону.
— Закон вяжет, — спорит молодой.
— С законом крепче, — отвечает старик, — взял бабу и живи.
— Закон вяжет понимание (любовь).
— Живи без понимания. Одна кляча.
— Один мед, — соглашаются другие старики.
Но молодые не хотят жить без «понимания».
И так все сложнее и сложнее запутывается нить общего должного смысла вокруг седого Рока. Вместе с единою церковью утерян и этот единый смысл. Первый раз в жизни я понимаю, что значит церковь для этих людей. Мне становится ясно, почему этот встретившийся мне на Волге доктор принял православную церковь в старинном виде, почему он понял ее как художественное произведение, как просветительно-воспитательную систему для народа.
— Какой же ты-то веры? — спрашивает меня белый дед.
За стариком и другие спрашивают. Подступают к окну, смотрят на меня полными смысла человеческими глазами.
— Какой ты веры? Какая у вас там вера?
— Я крещен православным.
— А веришь как?
Верю? Мне захотелось сказать им о какой-то хорошей вере. Но слова, которые мне попадаются, все не те. И в конце концов я чувствую только новое неприятное неудобство от этого вопроса. Там, в городе, в моей каменной квартире, никто не спросит, во что я верю. Здесь нельзя без этого. Я не смею и сказать даже, что совсем не верю, потому что это очень грубо.
— У нас, дедушка, — говорю я наконец, — верят все по-разному.
— По-раз-но-му! Слышь? По-разному. Да вы стать же нам, бедные, ах вы горькие, горькие.
— Нет, не как у вас, — отвечаю я. — У нас каждый сам свою веру должен найти.
— А не по родителям?
— Нет.
— Ну вот, поди ты, какая у них вера, — удивляется седой Рок.
— Новая вера! Новая вера! — побежало по площади. И новые, новые толпы двинулись к моему окну.
— Барин, — шепчет мне на ухо мой приятель Михаил Эрастович, — затвори окошко, урядник глядит; вишь, какой витим (митинг) собрал.
Я затворил окошко, и все понемногу возвратились к своим кулям с овсом, возам с сеном и к деревянному изделию.
Я не верю, как они, но угадываю, почти чувствую эту народную боль по единой церкви. Она, прекрасное, хрустальное здание, разбита на мелкие кусочки, и каждая частица, как андерсеновское зеркало, отражает целое в искаженном виде.
Я угадываю в больной душе преломленное отражение видимой церкви, и таким странным кажется мне обыкновенное каменное здание на базаре, которое тоже называется церковь.

Я подхожу к ней. Вокруг шпиля вьются и щебечут ласточки, голуби воркуют в нишах. Я смотрю на эту каменную вещь совершенно новыми глазами. Здесь, в этом краю излома народной души, как в анатомическом срезе, я постигаю все огромное и не замеченное мною раньше значение цельного церковного организма. Эта видимая каменная постройка с ласточками у шпиля и голубями в нишах для меня теперь полна таинственного значения.
Смотрю так на церковь. С колокольни спускается звонарь. Блестит смазанными волосами. Улыбается мне по типу юродивых.
В двухэтажном деревянном доме возле церкви, вероятно, живет батюшка.
— Вверху или внизу живет батюшка? — спрашиваю я.
— И наверху живет батюшка, и внизу живет батюшка, везде живет батюшка, — отвечает звонарь.
Священники — люди, которых я, как эту каменную церковь, привык не замечать: живут себе эти своеобразные люди, творят что-то возле народа, в обществе всюду принято над ними смеяться. Теперь во мне пробудилось что-то новое. Я хочу взглянуть на батюшку, как и на церковь, новыми глазами.
И вот он: красный, только что вернулся из бани, большой, волосатый, настоящий картинный батюшка.
Как и на каменной церкви, благодать почиет на нем оседло. Я, простой человек, должен терять и искать свою веру, я должен проваливаться и снова карабкаться вверх. Он — нет. Он обеспечен. Щебечут ласточки, воркуют голуби.
Батюшка рад мне.
— Для таких гостей, — говорит он, — нужно бутылочку пива. Хорошо?
— Очень.
— И не угодно ли воспользоваться маскарадом? Для странствующих и путешествующих это требуется.
Нет возможности оборониться от бесконечного благодушия батюшки.
«И с этими-то людьми мой доктор боролся девять лет, — подумал я. — Какую же твердую веру нужно иметь, какой фанатизм, отвлеченность, чтобы восстать на этот благодушный быт. Чудом, только чудом это возможно». И пришло мне в голову: что, если с этим вопросом об Ионе во чреве китовом, который я предложил тогда на Волге верующему доктору, объехать всю Россию, как Гоголь с мертвыми душами, — вот бы получилась картина.
— Батюшка, — спрашиваю я, — скажите откровенно: верите вы, что Иона просидел во чреве китовом три дня?
— Верю. Ведь у кита горло широкое, а чрево огромное.
— Нет, не то, — говорю я. И объясняю ему, как естественник, всю систему пищеварения, доказываю полную невозможность пребывания человека в замкнутом пространстве под действием пищеварительных соков три дня.
Я говорю и слышу, что батюшка мне поддакивает: верно, верно.
— Да как же верно-то, — сержусь я наконец. — Что-нибудь да не так.
А батюшка смотрит на меня хитрым глазком, грозит пальцем.
— Ну, — говорит он, — а если Иона не три дня сидел, а один только миг, и ему это показалось за три дня, что вы на это скажете?
Я растерялся, а батюшка налил мне новый стакан пива, довольный победой.

Он очень разносторонний: и просто батюшка, и благочинный, и миссионер, и поэт. Им сочинена и напечатана в духовном журнале ода на то, как трудно пастырю овец в краю раскола. Им задумана сатира: борьба с австрийским согласием. Пафос этого нового творения, как я узнал, относится к закону о свободе совести. Одна из сект раскола, самая правая, ближайшая к православию, воспользовалась новым законом и восстановила всю иерархию, восстановила старые церкви, построила новые, повесила колокола на них. Явилась новая церковь, совершенно такая же, как и допетровская, с правами, но почти без обязанностей к государству.
Этот страшный враг господствующей церкви, по мнению батюшки, растет со дня на день. Простой народ разве станет доискиваться правды: образа старинные, служба долгая, крестятся двумя перстами. Чего же больше? И враг растет.
Я рассказал батюшке, что знаком с австрийским архиереем.
— Лжеархиереем, — поправил меня батюшка.
— Ну, да, конечно, — сказал я. И взволновал его ужасною вестью, что архиерей вот-вот явится в Уренские края.
И нужно же так: не успел я кончить, как вошел пономарь и громко прошептал:
— Батюшка, архиерей!
— Что-о ты!
— Едет. На площади столы ставят. Говорить народу будет.
— Не-ет! Не дам. На площади он не смеет. Идемте.
В руках у батюшки большая суковатая палка. На площади столы с хлебом-солью, много народа. Я немного побаиваюсь: палка большая, но народ сильней.
Но чем ближе мы к толпе, тем меньше становится батюшка и, наконец, шепчет мне робко:
— А будто здесь мне не по сану… и с палкой… Он не успел окончить свои слова. В этот момент я сделался свидетелем исторического события. В край раскола, где раньше лишь одна небольшая секта осмеливалась по ночам на возу под рогожами провозить своего епископа, да и то в картузе и поддевке, — теперь в том же самом краю при полном солнечном свете, в мантии с лиловыми кантами, с вереницей священников назади, ехал настоящий старообрядческий архиерей.
Я оглянулся на батюшку. Его не было. Когда пыль разошлась, я увидел его удаляющуюся фигуру с огромной палкой. Еще немного спустя с той стороны спешила сюда раскрасневшаяся матушка — послушать, что скажет новый архиерей.
Но батюшка напрасно беспокоился: архиерей ничего не сказал. И зачем речи? Настоящим колокольным звоном, а не в чугунные доски, как раньше, встретили старообрядцы своего архиерея. Везде слезы и радостный шепот. Какие тут речи, когда после двухсотлетней борьбы с никонианами допетровская Русь наконец-то звонит в колокола. Сейчас, в эту минуту, радуются отцы, деды, прадеды, радуются лесные могилки, полуразрушенные часовни и большие восьмиконечные кресты.
Звон, звон!
По малиновому ковру проходит маленький архиерей в церковь. Валит толпа за ним. Тут много людей, уставших бороться за церковь, разучившихся молиться в одиночку. Теперь же при виде настоящего архиерея в мантии в них опять заговорила вера. Хотят совесть очистить.
Хорошая вера! Хорошие попы!
В одиночку-то как молиться!
Раз махнул, два махнул, а молитвы и нету.
В их вере легко: кланяются вместе, крестятся вместе. Знаешь начало и конец.
И звон. Вот звон-то!
Выравниваются темные ряды. Блестят венчики на святых. Поют охрипшими застарелыми голосами, но упрямо, в один голос. Загораются огоньки: один, другой, третий. Старый суровый Бог соединил сердца верующих фитильной ниткой и поджег: огонек к огоньку, огонек к огоньку. Поджег и почил. Сверху кажется ему теперь земная жизнь длинным спокойным рядом фонариков.
Я тоже зажигаю огонек, прислоняюсь спиной к стене и ухожу в какую-то темную, спокойную глубь: не то погружаюсь во впадину первоначального хаоса с вечными птицами, не то тихо иду ночною улицей с керосиновыми фонарями, не то слушаю стук колотушек в глухом городке.
Красиво склоняются дикирий и трикирий (4) над темными рядами молящихся. Здесь единая церковь, единое сердце.
Но в моем темном спокойствии почему-то заводится острая, сверлящая мысль-гвоздик: а что, если архиерей ошибется? Что, если он по непривычке как-нибудь не так махнет дикирием и трикирием или перекрестится не двумя, а тремя перстами? Что тогда будет? Мне кажется, что тогда непременно передо мною в темных рядах мелькнут крепкие скулы, серые нахальные глазки, кулаки, нечесаные бороды.
Архиерей служит прекрасно. Все крестятся вместе, все падают, как по сигналу, на свои подручники. Служба старинная, длинная. Я давно отвык от таких богослужений; переступаю с ноги на ногу, скрещиваю руки на груди, сую их в карманы — ничего не помогает: мысль-гвоздик неустанно сверлит: хорошо-то хорошо, но что, если, сохрани Бог, этот новый архиерей ошибется?
Продолжение следует.
М.М. Пришвин. «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 1
М.М. Пришвин. «У стен града невидимого» (Светлое озеро). Часть 2
1. …пребывание Ионы во чреве китовом…— Мтф. 12:39–41, 4 Цар. 14:25.
2. Австрийское согласие — Имеется в виду направление в старообрядчестве, признающее церковную иерархию, но считающее официальную церковь еретической; и потому имеющее самостоятельную, старообрядческую иерархию. Название получило по месту первоначального пребывания своего епископа Амвросия — селу Белая Криница на Буковине, входившей в состав Австрии (Белокриницкая иерархия).
3. …ходил к Серафиму…— Имеется в виду Серафим Саровский.
4. Дикирий и трикирий — двусвечник и трисвечник.
ruvera.ru
“У стен града невидимого” Пришвина в кратком изложении 👍
Родина моя – маленькое имение Орловской губернии. Вот туда, наслушавшись споров на религиозно-философских собраниях в Петербурге, я и решил отправиться, чтобы оглянуться по сторонам, узнать, что думают мудрые лесные старцы. Так началось мое путешествие в невидимый град.
Весна. В черном саду поют соловьи. Крестьяне в поле словно ленивые светлые боги.
Повсюду разговоры о японской войне, о грядущем “кроволитии”. В Алексеевку пришли сектанты -“бродили где-то крещеные и веру потеряли”, пугают геенной огненной. “Да это же не
Христос, – думаю я, – Христос милостивый, ясный без книг…”Вторая моя родина – Волга, кондовая Русь со скитами, раскольниками, с верой в град невидимый Китеж. Под Иванову ночь собираются со всех сторон странники на Ветлугу в город Варнавин, чтобы ползти “ободом друг за дружкой всю ночь” вкруг деревянной церковки над обрывом. Варнава-чудодей помог царю Ивану взять Казань.
Теплится над его гробницей свеча, а в темном углу пророчествует бородатая старуха: “…И придет Аввадон в Питенбург, и сядет на царство, и даст печать с цифрой шестьсот шестьдесят шесть”. С годины Варнавы паломники
возвращаются в Уренские леса. Здесь по скитам и деревенькам живут потомки ссыльных стрельцов, сохраняют старую веру, крестятся двумя перстами. “Что-то детски наивное и мужественное сочеталось в этих русских рыцарях, последних, вымирающих лесных стариках”.Прятались они по болотам, седели в ямах, читали праведные книги, творили молитву… Чтобы узнать о них, недоверчивых, настороженных, дают мне в провожатые молодого книжника Михаила Эрастовича. С трудом мы добираемся до известного в округе Петрушки.
Подростком он убежал в заволжские леса Бога искать. Христолюбец Павел Иванович отрыл ему яму, накрыл досками, дал книги, свечи, по ночам носил хлеб и воду. Двадцать семь лет провел Петрушка под землей, а как вышел, настроил избушек, собрал вокруг себя стариков. Но это уж после закона о свободе совести!
Говорят мне староверы, что опасаются: “не перевернется” ли новый закон на старые гонения? Жалуются на попа Николу: забрал из монастыря в Краснояре лучшие иконы в никонианскую церковь, ризы содрал, третьи пальчики приписал, помолодил, сидят теперь веселые, будто пьяные…
В селе Урень “что ни двор, то новая вера, тут всякие секты раскола”. Однако находят себя в старообрядчестве и люди образованные. Встретил я на Волге доктора и священника в одном лице, “верующего, как и народ, в то, что был Иона во чреве китовом три дня под действием желудочного сока”. Этот доктор дал мне письмо к архиерею, с которым я собрался обсудить, возможна ли “видимая церковь”. “Церковь не должна идти в наемники к государству” – вот содержание нашего долгого разговора.
При мне архиерей впервые, не таясь, а средь ясного дня приехал к мирянам, вышел на площадь и проповедовал. Звонят колокола, радуются полуразрушенные часовни и большие восьмиконечные кресты.
Но есть “церковь невидимая”, хранимая в душе человеческой. Потому стекаются странники к Светлому озеру, к “чаше святой воды в зеленой зубчатой раме”. От каждого исходит лучик веры в богоспасаемый невидимый град Китеж.
За сотни верст несут тяжелые книги, чтобы “буквой” победить противников. Чувствую, что и я начинаю верить в Китеж, пусть отраженной, но искренней верой. Мне советуют послушать праведницу Татьяну Горнюю – ей дано видеть скрытый в озере град. И всякий надеется на это чудо.
Старушка опускает в трещину у березовых корней копеечку и куриное яйцо для загробных жителей, другая подсовывает под корягу холстину: обносились угодники… В каком я веке? На холмах вокруг Светлояра пестро от паломников.
Мой знакомый старовер Ульян вступает в спор с батюшкой. Из толпы выходит большой старик в лаптях и говорит о Христе: “Он – Слово, он – Дух”. С виду обыкновенный лесной мужик с рыжей клочковатой бородой, а оказалось -“непоклонник, иконоборец, немоляка”.
Встречался Дмитрий Иванович с петербургским писателем Мережским, переписывается с ним, не соглашается: “Он плотского Христа признает, а, по-нашему, Христа по плоти нельзя разуметь. Коли Христос плотян, так он мужик, а коли мужик, так на что он нам нужен, мужиков и так довольно”.
На обратном пути от Светлого озера к городу Семенову Дмитрий Иванович знакомит меня с другими немоляками, ложкарями-философами. Они увлечены “переводом” Библии с “вещественного неба на духовного человека” и верят, что, когда все прочтешь и переведешь, настанет вечная жизнь. Они спорят с заезжими баптистами, отказываются видеть в Христе реального человека. Чувствуя мой искренний интерес, младший из немоляк, Алексей Ларионович, открывает тайну, как они забросили богов деревянных, поняв, что “все Писание – притча”.
Взял Алексей Ларионович тайком от жены иконы, переколол их топором, сжег, да ничего не произошло: “дрова – дрова и есть…” А в божницу опустевшую поставил свой ложкарский инструмент. Какие тайные подземные пути соединяют этих, лесных, и тех, культурных, искателей истинной веры! Сотни их, виденных мною, начиная от пустынника Петрушки и кончая воображаемым духовным человеком, разделенным с плотью этими немоляками, прошли у стен града невидимого.
И кажется, староверский быт говорит моему сердцу о возможном, но упущенном счастии русского народа. “Обессиленная душа протопопа Аввакума, – думал я, – не соединяет, а разъединяет земных людей”.
lit.ukrtvory.ru
Краткое содержание “У стен града невидимого Светлое озеро” Пришвин 👍
Родина моя – маленькое имение Орловской губернии. Вот туда, наслушавшись споров на религиозно-философских собраниях в Петербурге, я и решил отправиться, чтобы оглянуться по сторонам, узнать, что думают мудрые лесные старцы. Так началось мое путешествие в невидимый град.
Весна. В черном саду поют соловьи. Крестьяне в поле словно ленивые светлые боги.
Повсюду разговоры о японской войне, о грядущем “кроволитии”. В Алексеевку пришли сектанты – “бродили где-то крещеные и веру потеряли”, пугают геенной огненной. “Да это же
не Христос, – думаю я, – Христос милостивый, ясный без книг…”Вторая моя родина – Волга, кондовая Русь со скитами, раскольниками, с верой в град невидимый Китеж. Под Иванову ночь собираются со всех сторон странники на Ветлугу в город Варнавин, чтобы ползти “ободом друг за дружкой всю ночь” вкруг деревянной церковки над обрывом. Варнава-чудодей помог царю Ивану взять Казань. Теплится над его гробницей свеча, а в темном углу пророчествует бородатая старуха: “…И придет Аввадон в Питенбург, и сядет на царство, и даст печать с цифрой шестьсот шестьдесят шесть”.
С годины Варнавы паломники
возвращаются в Уренские леса. Здесь по скитам и деревенькам живут потомки ссыльных стрельцов, сохраняют старую веру, крестятся двумя перстами. “Что-то детски наивное и мужественное сочеталось в этих русских рыцарях, последних, вымирающих лесных стариках”. Прятались они по болотам, седели в ямах, читали праведные книги, творили молитву…Чтобы узнать о них, недоверчивых, настороженных, дают мне в провожатые молодого книжника Михаила Эрастовича. С трудом мы добираемся до известного в округе Петрушки. Подростком он убежал в заволжские леса Бога искать. Христолюбец Павел Иванович отрыл ему яму, накрыл досками, дал книги, свечи, по ночам носил хлеб и воду.
Двадцать семь лет провел Петрушка под землей, а как вышел, настроил избушек, собрал вокруг себя стариков. Но это уж после закона о свободе совести! Говорят мне староверы, что опасаются: “не перевернется” ли новый закон на старые гонения?
Жалуются на попа Николу: забрал из монастыря в Краснояре лучшие иконы в никонианскую церковь, ризы содрал, третьи пальчики приписал, помолодил, сидят теперь веселые, будто пьяные…
В селе Урень “что ни двор, то новая вера, тут всякие секты раскола”. Однако находят себя в старообрядчестве и люди образованные. Встретил я на Волге доктора и священника в одном лице, “верующего, как и народ, в то, что был Иона во чреве китовом три дня под действием желудочного сока”. Этот доктор дал мне письмо к архиерею, с которым я собрался обсудить, возможна ли “видимая церковь”. “Церковь не должна идти в наемники к государству” – вот содержание нашего долгого разговора.
При мне архиерей впервые, не таясь, а средь ясного дня приехал к мирянам, вышел на площадь и проповедовал. Звонят колокола, радуются полуразрушенные часовни и большие восьмиконечные кресты.
Но есть “церковь невидимая”, хранимая в душе человеческой. Потому стекаются странники к Светлому озеру, к “чаше святой воды в зеленой зубчатой раме”. От каждого исходит лучик веры в богоспасаемый невидимый град Китеж.
За сотни верст несут тяжелые книги, чтобы “буквой” победить противников. Чувствую, что и я начинаю верить в Китеж, пусть отраженной, но искренней верой. Мне советуют послушать праведницу Татьяну Горнюю – ей дано видеть скрытый в озере град.
И всякий надеется на это чудо. Старушка опускает в трещину у березовых корней копеечку и куриное яйцо для загробных жителей, другая подсовывает под корягу холстину: обносились угодники… В каком я веке?
На холмах вокруг Светлояра пестро от паломников. Мой знакомый старовер ульян вступает в спор с батюшкой. Из толпы выходит большой старик в лаптях и говорит о Христе: “Он – Слово, он – Дух”. С виду обыкновенный лесной мужик с рыжей клочковатой бородой, а оказалось – “непоклонник, иконоборец, немоляка”.
Встречался Дмитрий Иванович с петербургским писателем Мережским, переписывается с ним, не соглашается: “Он плотского Христа признает, а, по-нашему, Христа по плоти нельзя разуметь. Коли Христос плотян, так он мужик, а коли мужик, так на что он нам нужен, мужиков и так довольно”.
На обратном пути от Светлого озера к городу Семенову Дмитрий Иванович знакомит меня с другими немоляками, ложкарями-философами. Они увлечены “переводом” Библии с “вещественного неба на духовного человека” и верят, что, когда все прочтешь и переведешь, настанет вечная жизнь. Они спорят с заезжими баптистами, отказываются видеть в Христе реального человека.
Чувствуя мой искренний интерес, младший из немоляк, Алексей Ларионович, открывает тайну, как они забросили богов деревянных, поняв, что “все Писание – притча”. Взял Алексей Ларионович тайком от жены иконы, переколол их топором, сжег, да ничего не произошло: “дрова – дрова и есть…” А в божницу опустевшую поставил свой ложкарский инструмент (на него по привычке крестится жена). Какие тайные подземные пути соединяют этих, лесных, и тех, культурных, искателей истинной веры!
Сотни их, виденных мною, начиная от пустынника Петрушки и кончая воображаемым духовным человеком, разделенным с плотью этими немоляками, прошли у стен града невидимого. И кажется, староверский быт говорит моему сердцу о возможном, но упущенном счастии русского народа. “Обессиленная душа протопопа Аввакума, – думал я, – не соединяет, а разъединяет земных людей”.
lit.ukrtvory.ru
М. Пришвин. У стен града невидимого. Том 5. Очерки, статьи, речи
М. Пришвин. У стен града невидимого
Москва, 1909
М. Пришвин напрасно называет свою вторую книгу «повестью». Она может быть названа путевыми «записками» точно так же, как и первая книга его «За волшебным колобком», — записки о крайнем севере России и Норвегии.
М. Пришвин прекрасно владеет русским языком, и многие чисто народные слова, совершенно забытые нашей «показной» и по преимуществу городской литературой, для него живы. Мало этого, он умеет показать, что богатый словарь, которым он пользуется, и вообще жизнеспособен, что богатства русского языка доселе еще далеко не исчерпаны.
К сожалению, М. Пришвин владеет литературной формой далеко не так свободно, как языком. От этого его книги, очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные, читаются с трудом. Это — богатый сырой материал, требующий скорее изучения, чем чтения; отсюда много могут почерпнуть и художник, и этнограф, и исследователь раскола и сектантства. Для последнего особенно важна книга «У стен Града Невидимого», дневник путешествия на озеро Светлояр, ко граду Китежу, прибавляющий нечто новое к впечатлениям такого же «дневника» 3. Гиппиус («Светлое озеро», напеча<танного?> в журнале «Новый путь», а потом — в книге «Алый меч»).
Октябрь 1909
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
public.wikireading.ru
Михаил Пришвин - У Стен Града Невидимого - Краткие содержания произведений
Родина моя — маленькое имение Орловской губернии. Вот туда, наслушавшись споров нарелигиозно-философских собраниях в Петербурге, я и решил отправиться, чтобы оглянуться посторонам, узнать, что думают мудрые лесные старцы. Так началось мое путешествие в невидимыйград.Весна. В черном саду поют соловьи. Крестьяне в поле словно ленивые светлые боги. Повсюдуразговоры о японской войне, о грядущем «кроволитии». В Алексеевку пришли сектанты — «бродилигде-то крещеные и веру потеряли», пугают геенной огненной. «Да это же не Христос, — думаю я, —Христос милостивый, ясный без книг…»Вторая моя родина — Волга, кондовая Русь со скитами, раскольниками, с верой в град невидимыйКитеж. Под Иванову ночь собираются со всех сторон странники на Ветлугу в город Варнавин, чтобыползти «ободом друг за дружкой всю ночь» вкруг деревянной церковки над обрывом.
Варнава-чудодейпомог царю Ивану взять Казань. Теплится над его гробницей свеча, а в темном углу пророчествуетбородатая старуха. «…И придет Аввадон в Питенбург, и сядет на царство, и даст печать с цифройшестьсот шестьдесят шесть». С годины Варнавы паломники возвращаются в Уренские леса. Здесь поскитам и деревенькам живут потомки ссыльных стрельцов, сохраняют старую веру, крестятся двумяперстами. «Что-то детски наивное и мужественное сочеталось в этих русских рыцарях, последних,вымирающих лесных стариках». Прятались они по болотам, седели в ямах, читали праведные книги,творили молитву… Чтобы узнать о них, недоверчивых, настороженных, дают мне в провожатые молодогокнижника Михаила Эрастовича. С трудом мы добираемся до известного в округе Пётрушки.
Подросткомон убежал в заволжские леса Бога искать. Христолюбец Павел Иванович отрыл ему яму, накрыл досками,дал книги, свечи, по ночам носил хлеб и воду. Двадцать семь лет провел Пётрушка под землей, а каквышел, настроил избушек, собрал вокруг себя стариков. Но это уж после закона о свободе совести!Говорят мне староверы, что опасаются. «не перевернется» ли новый закон на старые гонения. Жалуютсяна попа Николу. Забрал из монастыря в Краснояре лучшие иконы в никонианскую церковь, ризы содрал,третьи пальчики приписал, помолодил, сидят теперь веселые, будто пьяные…В селе Урень «что ни двор, то новая вера, тут всякие секты раскола». Однако находят себя встарообрядчестве и люди образованные. Встретил я на Волге доктора и священника в одном лице,«верующего, как и народ, в то, что был Иона во чреве китовом три дня под действием желудочногосока».
Этот доктор дал мне письмо к архиерею, с которым я собрался обсудить, возможна ли «видимаяцерковь». «Церковь не должна идти в наемники к государству» — вот содержание нашего долгогоразговора. При мне архиерей впервые, не таясь, а средь ясного дня приехал к мирянам, вышел наплощадь и проповедовал. Звонят колокола, радуются полуразрушенные часовни и большиевосьмиконечные кресты.Но есть «церковь невидимая», хранимая в душе человеческой. Потому стекаются странники кСветлому озеру, к «чаше святой воды в зеленой зубчатой раме». От каждого исходит лучик веры вбогоспасаемый невидимый град Китеж. За сотни верст несут тяжелые книги, чтобы «буквой» победитьпротивников. Чувствую, что и я начинаю верить в Китеж, пусть отраженной, но искренней верой.
Мнесоветуют послушать праведницу Татьяну Горнюю — ей дано видеть скрытый в озере град. И всякийнадеется на это чудо. Старушка опускает в трещину у березовых корней копеечку и куриное яйцо длязагробных жителей, другая подсовывает под корягу холстину. Обносились угодники… В каком я веке?На холмах вокруг Светлояра пестро от паломников. Мой знакомый старовер ульян вступает в спор сбатюшкой. Из толпы выходит большой старик в лаптях и говорит о Христе. «Он — Слово, он — Дух». Свиду обыкновенный лесной мужик с рыжей клочковатой бородой, а оказалось — «непоклонник,иконоборец, немоляка». Встречался Дмитрий Иванович с петербургским писателем Мережским,переписывается с ним, не соглашается. «Он плотского Христа признает, а, по-нашему, Христа по плотинельзя разуметь.
Коли Христос плотян, так он мужик, а коли мужик, так на что он нам нужен, мужиков итак довольно».На обратном пути от Светлого озера к городу Семенову Дмитрий Иванович знакомит меня с другиминемоляками, ложкарями-философами. Они увлечены «переводом» Библии с «вещественного неба надуховного человека» и верят, что, когда все прочтешь и переведешь, настанет вечная жизнь. Ониспорят с заезжими баптистами, отказываются видеть в Христе реального человека. Чувствуя мойискренний интерес, младший из немоляк, Алексей Ларионович, открывает тайну, как они забросилибогов деревянных, поняв, что «все Писание — притча». Взял Алексей Ларионович тайком от жены иконы,переколол их топором, сжег, да ничего не произошло. «дрова — дрова и есть…» А в божницу опустевшуюпоставил свой ложкарский инструмент (на него по привычке крестится жена).
Какие тайные подземныепути соединяют этих, лесных, и тех, культурных, искателей истинной веры. Сотни их, виденных мною,начиная от пустынника Петрушки и кончая воображаемым духовным человеком, разделенным с плотьюэтими немоляками, прошли у стен града невидимого. И кажется, староверский быт говорит моему сердцуо возможном, но упущенном счастии русского народа. «Обессиленная душа протопопа Аввакума, — думаля, — не соединяет, а разъединяет земных людей»..
На нашем сайте Вы найдете значение "Михаил Пришвин - У Стен Града Невидимого" в словаре Краткие содержания произведений, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Михаил Пришвин - У Стен Града Невидимого, различные варианты толкований, скрытый смысл.
Первая буква "М". Общая длина 40 символа
my-dict.ru
Михаил Пришвин «У стен града невидимого» — отзыв sq
На момент написания эта книга была, думаю, очень острой и злободневной. Пришвин отправился в леса, но только не глухарей изучать, а староверов. Царь-батюшка как раз разрешил свободу вероисповедания, и всякие секты вылезли из подполья. При этом самим Пришвиным двигал вовсе не религиозный интерес:
старинные иконы, семь просфор, хождение посолонь, двуперстие – для меня лишь этнографические ценности
В своём путешествии он обнаружил множество более или менее экзотических вариантов христианской веры:
Потом пришли к нам на холм разные сектанты, немоляки, баптисты, штундисты. [...] Устал я и ушел отдохнуть в село до вечера.
Как видно, религиозное строительство в стране шло полным ходом. Все со всеми активно спорили, и некоторые иногда приходили к согласию, чтобы немедленно отмежеваться от "неправильных" доктрин.
Если бы через несколько лет большевики не запретили всё скопом, у нас возникла бы, пожалуй, ситуация, которую мы наблюдаем сегодня в США. Государство действительно отделилось бы от церкви, и расцвели бы десять тысяч цветов: от евангелистов до адвентистов седьмого дня и от амишей до мормонов. Они свободно боролись бы за паству и предлагали что-то полезное для последователей. При этом вера или неверие реально были бы частным делом каждого.
Честно говоря, мне, в отличие от Пришвина, не сильно интересны [без сомнения глубокие] рассуждения автора и философов из лесной чащи об истинной вере, об общине, о тогдашних взаимоотношениях церкви и государства и прочее.
Много настоящих цветов и особенно ландышей украшают страницы. Но нет самого главного: книга мертва. Бог ушел из нее. Ему стало скучно, он ушел, а люди роются, роются в желтых страницах.
Это не я придумал, это Пришвин.
Если бы люди, начиная с Шумера и Египта, не тратили столько сил на богов, за сорок пять веков они достигли бы бог знает каких успехов в реальной жизни. Если бы эту энергию да применить в мирных целях... Может, и грязь в святом селе не по колено была бы и земля не плоская.
Речь о XX веке, между прочим идёт, уже 400 лет как Магеллан земной шар обогнул, а они всё не в курсе, что вокруг чего крутится.
Ну и напоследок пример, непосредственно касающийся нашей сегодняшней жизни. Церковь Варнавы подмывает река, она вот-вот упадёт с обрыва. Может, святой из неё давно ушёл?
Народ рассуждает логично:
если святого там нет, то зачем укреплять обрыв, а если он там, то удержит [и без нашей помощи]. Так живет и верит вся Россия и не укрепляет обрыв
И логика не устаревает. Сто лет минуло, а обрыв укреплять мы так и не научились.
Или просто лень?
www.livelib.ru
Краткое содержание произведения У стен града невидимого Пришвин
Родина моя — маленькое имение Орловской губернии. Вот туда, наслушавшись споров на религиозно-философских собраниях в Петербурге, я и решил отправиться, чтобы оглянуться по сторонам, узнать, что думают мудрые лесные старцы. Так началось моё путешествие в невидимый град.
Весна. В чёрном саду поют соловьи. Крестьяне в поле словно ленивые светлые боги. Повсюду разговоры о японской войне, о грядущем «кроволитии». В Алексеевку пришли сектанты — «бродили где-то крещёные и веру потеряли», пугают геенной огненной. «Да это же не Христос, — думаю я, — Христос милостивый, ясный без книг…»
Вторая моя родина — Волга, кондовая Русь со скитами, раскольниками, с верой в град невидимый Китеж. Под Иванову ночь собираются со всех сторон странники на Ветлугу в город Варнавин, чтобы ползти «ободом друг за дружкой всю ночь» вкруг деревянной церковки над обрывом. Варнава-чудодей помог царю Ивану взять Казань. Теплится над его гробницей свеча, а в тёмном углу пророчествует бородатая старуха: «…И придёт Аввадон в Питенбург, и сядет на царство, и даст печать с цифрой шестьсот шестьдесят шесть». С годины Варнавы паломники возвращаются в Уренские леса. Здесь по скитам и деревенькам живут потомки ссыльных стрельцов, сохраняют старую веру, крестятся двумя перстами. «Что-то детски наивное и мужественное сочеталось в этих русских рыцарях, последних, вымирающих лесных стариках». Прятались они по болотам, седели в ямах, читали праведные книги, творили молитву… Чтобы узнать о них, недоверчивых, настороженных, дают мне в провожатые молодого книжника Михаила Эрастовича. С трудом мы добираемся до известного в округе Пётрушки. Подростком он убежал в заволжские леса Бога искать. Христолюбец Павел Иванович отрыл ему яму, накрыл досками, дал книги, свечи, по ночам носил хлеб и воду. Двадцать семь лет провёл Пётрушка под землёй, а как вышел, настроил избушек, собрал вокруг себя стариков. Но это уж после закона о свободе совести! Говорят мне староверы, что опасаются: «не перевернётся» ли новый закон на старые гонения? Жалуются на попа Николу: забрал из монастыря в Краснояре лучшие иконы в никонианскую церковь, ризы содрал, третьи пальчики приписал, помолодил, сидят теперь весёлые, будто пьяные…
В селе Урень «что ни двор, то новая вера, тут всякие секты раскола». Однако находят себя в старообрядчестве и люди образованные. Встретил я на Волге доктора и священника в одном лице, «верующего, как и народ, в то, что был Иона во чреве китовом три дня под действием желудочного сока». Этот доктор дал мне письмо к архиерею, с которым я собрался обсудить, возможна ли «видимая церковь». «Церковь не должна идти в наёмники к государству» — вот содержание нашего долгого разговора. При мне архиерей впервые, не таясь, а средь ясного дня приехал к мирянам, вышел на площадь и проповедовал. Звонят колокола, радуются полуразрушенные часовни и большие восьмиконечные кресты.
Но есть «церковь невидимая», хранимая в душе человеческой. Потому стекаются странники к Светлому озеру, к «чаше святой воды в зелёной зубчатой раме». От каждого исходит лучик веры в богоспасаемый невидимый град Китеж. За сотни вёрст несут тяжёлые книги, чтобы «буквой» победить противников. Чувствую, что и я начинаю верить в Китеж, пусть отражённой, но искренней верой. Мне советуют послушать праведницу Татьяну Горнюю — ей дано видеть скрытый в озере град. И всякий надеется на это чудо. Старушка опускает в трещину у берёзовых корней копеечку и куриное яйцо для загробных жителей, другая подсовывает под корягу холстину: обносились угодники… В каком я веке? На холмах вокруг Светлояра пёстро от паломников. Мой знакомый старовер Ульян вступает в спор с батюшкой. Из толпы выходит большой старик в лаптях и говорит о Христе: «Он — Слово, он — Дух». С виду обыкновенный лесной мужик с рыжей клочковатой бородой, а оказалось — «непоклонник, иконоборец, немоляка». Встречался Дмитрий Иванович с петербургским писателем Мережским, переписывается с ним, не соглашается: «Он плотского Христа признает, а, по-нашему, Христа по плоти нельзя разуметь. Коли Христос плотян, так он мужик, а коли мужик, так на что он нам нужен, мужиков и так довольно».
На обратном пути от Светлого озера к городу Семенову Дмитрий Иванович знакомит меня с другими немоляками, ложкарями-философами. Они увлечены «переводом» Библии с «вещественного неба на духовного человека» и верят, что, когда все прочтёшь и переведёшь, настанет вечная жизнь. Они спорят с заезжими баптистами, отказываются видеть в Христе реального человека. Чувствуя мой искренний интерес, младший из немоляк, Алексей Ларионович, открывает тайну, как они забросили богов деревянных, поняв, что «все Писание — притча». Взял Алексей Ларионович тайком от жены иконы, переколол их топором, сжёг, да ничего не произошло: «дрова — дрова и есть…» А в божницу опустевшую поставил свой ложкарский инструмент (на него по привычке крестится жена). Какие тайные подземные пути соединяют этих, лесных, и тех, культурных, искателей истинной веры! Сотни их, виденных мною, начиная от пустынника Петрушки и кончая воображаемым духовным человеком, разделённым с плотью этими немоляками, прошли у стен града невидимого. И кажется, староверский быт говорит моему сердцу о возможном, но упущенном счастии русского народа. «Обессиленная душа протопопа Аввакума, — думал я, — не соединяет, а разъединяет земных людей».
Моя поездка в невидимый град началась, когда я слышал много религиозных прений в Петербурге, решил поехать на Родину – в Орловскую губернию. В имение пришли сектанты.
На Волге – второй Родине, люди верят в невидимый град Китеж. В Уренских лесах живут внуки ссыльных стрельцов, которые хранят свою веру и крестятся еще двумя пальцами. Они читали священные книги, молились. Чтобы разузнать о них, получаю провожатым молодого Михаила Эрастовича. Тяжко достигли мы Пётрушки, который в отрочестве искал Бога. Он пребывал в яме, накрытой досками, при свечах читал книги, ему приносили скромную еду. Так он прожил двадцать семь лет. Староверы жаловались на попа.
В деревне Урень много разных направлений веры. Но верующими есть и люди ученные. Например, доктор, которого я повстречал и который направил меня к архиерею. Тот проповедовал мирянам днем на площади.
Существует невидимая церковь в душе человека. Каждый из путников верит в град Китеж. Мне рекомендуют выслушать праведницу Татьяну Горнюю, которая видит этот град в Светлом озере. Вокруг него очень много богомольцев, которые ведут споры о Христе. Дмитрий Иванович – простой крестьянин убеждал, что Бог – это Дух.
По пути назад от озера к городу он знакомит меня со своими друзьями-философами. Они заняты переводом Библии и думают, что когда ее всю прочитаешь и переведешь, получишь вечную жизнь. Староверы ведут дискуссии с баптистами, потому что не верят, что Христос – это настоящий человек. Алексей Ларионович объяснил мне, что они отреклись от деревянных богов, так как все Писание – есть притча. Попробовал он, чтобы жена не узнала, изрубил топором и сжег все иконы. Ничего не случилось. В божнице расставил свои инструменты, на которые и молится по привычке жена. Как связаны эти, деревенские, и те, цивилизованные, искатели настоящей веры! Многих видел я, начиная от праведника Петрушки и заканчивая духовной личностью. Быт староверов подсказывает моему сердцу, что русский народ мог быть счастлив, но упустил этот момент.
www.allsoch.ru